Три шедевра: «Синяя Борода», «Саломея», «Пелеас»
Три шедевра: «Синяя Борода», «Саломея», «Пелеас»
«Саломея» (1905) — наверное, самое символистское из этих трех произведений в историческом смысле. Хронологически «Пелеас» ей предшествует (1902), но если сочинение Дебюсси, в силу оригинальности и специфичности письма, открывает путь преодоления символизма, закладывает основы модернизма, что позволяет Дебюсси соперничать с Шёнбергом и Стравинским, то «Саломея» Р. Штрауса является совершенным выражением своей эпохи: здесь резюмированы все новаторские устремления символизма, но вместе с тем собраны и все его штампы.
Доказательство тому — уже сам выбор темы, породившей множество интерпретаций и потому более затертой, чем сюжет Метерлинка — Дебюсси. Страсти Саломеи известны по литературе (Флобер, Уайлд, Гюисманс), живописи (Моро, Климт, Бёрдсли), музыкальным сочинениям (Массне, «Иродиада»; Ф. Шмитт, «Трагедия Саломеи»). Даты создания этих произведений: между 1877 (Флобер) и 1909 (Климт) — свидетельствуют о принадлежности данного сюжета символизму. На гребне волны, охватившей Европу, оказалось именно произведение Р. Штрауса, а не Дебюсси. Почему? Потому что в ужасе этой трагедии, в эротизме, составляющем ее пружину, в характерах персонажей — во всем этом гораздо больше декадентства, чем в «Пелеасе и Мелисанде». В царстве Саломеи и Ирода нет места жалости, и оттого зритель лишен возможности испытать возмущение, пережить катарсис. Напротив, в произведении Дебюсси нет ни бессмысленной жестокости, ни извращенной упадочности. Таким образом, только «Саломея» всецело следует двойной формуле Бодлера, которая, как мы говорили вначале, в связи с вагнерианством, воплощает дух символизма: ужас и экстаз, «фосфоресцирующее гниение».

Рихард Штраус и Габриель Астрюк на премьере оперы «Саломея». Рисунок
И именно психологическая и драматургическая природа образа героини позволяет понять, сколь различны между собой оперы Штрауса и Дебюсси. Лерис сравнивал Саломею с самкой богомола, которая, насладившись предметом своей страсти, убивает его. С начала и до конца пьесы сцена принадлежит Саломее. Мелисанда конечно же совсем не такова! В противоположность ей, Электра. Лулу, героини романов Дюжардена. Гюисманса, персонажи Уайлда, Ибсена или Д’Аннунцио стоят в том же ряду, что и героиня Штрауса.
Символом юности и болезненности, невинности и извращенности служит один цвет — белый; эти мотивы воплощает один стиль — оркестровое и вокальное великолепие. Белизна фигур Иоканаана и Саломеи цвет невинности и смерти, театрального грима и страха. Язык либретто изобилует словами, означающими холод и неподвижность, лунный, тусклый свет, чистоту и скованность. В природе этих понятий достаточно ясно просматривается двусмысленность атмосферы и психологического рисунка: так же, как любовь Гебы или Артемиды у греков, любовь Саломеи к Иоканаану в самой своей сути и целомудренна, и смертоносна. В ней нет чудовищности, но она противоестественна.
Музыкальный эквивалент этому — тщательно продуманные, не выходящие из-под контроля композитора бред и разгул. Конечно, речь идет не о скандале, некогда вызванном «Танцем с семью покрывалами» (хотя недавняя постановка Виланда Вагнера и исполнение Аньи Сильи как бы восстановили связь с прошлым!), но о некоторых фрагментах, конкретных эпизодах. Например, о двух сценах Саломеи с Иоканааном — живым, а затем казненным: здесь опьянение любовью, раздираемой противоположными силами, выражено в протяженных мелодических линиях, повторах (почти лейтмотивах) партии Саломеи, в то время как оркестр — огромный, богатый и разнообразный по составу — охвачен вакханалией. Здесь и в самом деле происходит «расстройство всех чувств», причем именно «систематическое», то есть изощренное. Однако, несмотря на жесткий авторский контроль, язык Штрауса в «Саломее» исполнен магизма, как и поэзия Малларме или Рембо. Можно отметить и вокальную оригинальность партии Саломеи, трудность которой связана с необходимостью придать голосу, часто лишенному тембра, искусственный колорит, выражающий одновременно целомудрие и извращенность. Гипнотизм — вот, пожалуй, ключевое слово для «Саломеи»: в нем отражено и наше отношение к произведению, и сама его сущность, а главное — оно указывает на явную и органичную связь оперы Р. Штрауса с эстетикой символизма. «Саломея» — в полном смысле слова порождение своей эпохи.
Атмосферу «Пелеаса и Мелисанды» лучше назвать «чарующей». Ведь в пьесе Метерлинка Дебюсси привлекла прежде всего «выразительность насыщенного подтекстом языка, которая могла бы получить развитие в музыке и в оркестровке» («Comoedia», интервью, апрель 1902 г.). Можно сказать, что дистанция между Дебюсси и Р. Штраусом примерно соответствует различию между Верленом и Рембо. Но дело не только в языке. Искусство Метерлинка прямо отвечает сценическому идеалу Дебюсси: жизнь персонажей протекает «вне времени и пространства» (вновь отличие от Штрауса и Уайлда!), и они «безропотно претерпевают все, что ниспослано судьбой». Дебюсси отказывается от традиционного способа дифференциации персонажей (вполне приемлемого для Штрауса), построенного на противопоставлении характеров и ситуаций. Описание героев не интересует Дебюсси, он стремится создать произведение, которое открыло бы перед нами их сердца и объяснило судьбу не внешними обстоятельствами, а душевными импульсами (в этом Дебюсси, как и Штраус, близок к фрейдовской психологии). Театр Метерлинка отвечает общему устремлению символистов; драма разыгрывается одновременно в двух планах: внешнем, выраженном в словах и жестах, и внутреннем, где и совершается настоящее действие, определяющее все то, что происходит на сцене. Слова и поступки важны лишь постольку, поскольку в них обнаруживается действие неотвратимых законов. Герои пьесы подобны персонажам сновидения: они не ведают, ни откуда пришли, ни куда идут.
Как же удается Дебюсси оживить этих призраков? Он использует простые средства: чаще всего речитатив, сохраняющий интонации, свойственные французскому языку; однако композитор не становится рабом этого приема. Он превращает речитатив в бесконечно гибкий инструмент, позволяющий уловить и передать скрытый смысл слов, и при необходимости без колебаний использует находки других авторов. Например, часто утверждают, что Дебюсси вводит лейтмотивы, использование которых у Вагнера сам же высмеивает. Но лейтмотивы у Вагнера имеют динамичный характер: они призваны связывать оркестровые массы и несут повествовательную функцию. У Дебюсси же мотивы статичны, нередко фрагментарны, видоизменяются в зависимости от ситуации, атмосферы или состояния души героев. В чем причина этого различия? Дебюсси необходимо уйти от ясности, к которой стремится в своих произведениях Вагнер: слишком прозрачные музыкальные символы не должны рассеять ощущение тайны, двусмысленности событий. В самом начале первой сцены второго акта флейты возвещают о появлении Пелеаса; но этот мотив больше не прозвучит ни в том же виде, ни в сходном контексте — то же самое относится и к мотивам Мелисанды, Голо, фонтана в парке и пр. Один из вариантов мотива Голо идентичен мотиву кольца, которое Мелисанда роняет в воду. Другие мотивы взаимно пересекаются, изменяются по окраске и насыщенности; в них — намек на реальность, а иногда — всего лишь на мысль о ней. Здесь мы далеки от мира Р. Штрауса с его внешним великолепием. Символизм Дебюсси чужд изысканности или роскоши; это символизм впечатлений, полутонов.
Композитор отходит от романтических моделей, особенно когда дело касается условных тем любви и смерти. Р. Штраус стремится к тому же, но тяга к странному побуждает его всемерно усиливать экспрессию. Дебюсси первым рискнул уйти от патетики, не снижая, однако, экспрессивности. В первой картине третьего акта продолжительная сцена Пелеаса с Мелисандой, смотрящей из окна башни, целиком развертывается под оркестровый аккомпанемент «pianissimo», несмотря на огромное эмоциональное напряжение. Можно представить, как использовали бы в подобной ситуации оркестр немецкие композиторы! В сцене у фонтана Дебюсси идет еще дальше: в момент объяснения в любви Пелеаса и Мелисанды оркестр, до того звучавший «forte», умолкает совсем, а затем начинает играть «ррр», сопровождая речитатив Пелеаса, как будто постепенно выходит из тени на свет. Поистине, в «Пелеасе» достигает расцвета культ суггестии; основа основ для символистов, начиная с Верлена, этот культ опирается на изощренное мастерство нюансов и умолчаний; в то же время — по крайней мере, у Дебюсси он чужд какой-либо традиции: чуткость композитора к проблематике сонорности отрывает его от символизма, предуготовляя ему место среди крупнейших новаторов XX в. «Пелеас» тем самым становится произведением переходным.
«Замок герцога Синяя Борода» Бартока (1911) на либретто Белы Балаша можно было бы рассматривать как последний рубеж символизма. Прежде всего, это произведение завершает развитие темы, к которой, начиная с Перро, последовательно обращались Гретри, Оффенбах, Дюка; в самом либретто, изначально предназначавшемся для Кодая, много от Метерлинка; что касается музыки, в партитуре очевидно влияние дебюссизма. «Синяя Борода», таким образом, представляет собой своего рода конечный пункт.
Как и пьеса Метерлинка, опера герметична ввиду двух основных особенностей. В либретто Балаша жены Синей Бороды не гибнут, а всего лишь становятся его пленницами; последняя же, отнюдь не жертва, делает попытку освободить других, принести свет в царство тьмы. Но победу одерживает Синяя Борода: бунтарка останется пленницей, как и все прочие. Балаш выделяет внутренний аспект сюжета — но скорее метафизический, чем психологический план.
В сущности, в сказке о Синей Бороде воплощен конфликт между мужчиной и женщиной, между рационально-творческим и интуитивным началом, а также, как во многих произведениях Рембо и Клоделя, аллегория одиночества и непонимания. Но самый очевидный смысл этой истории заключается в том, что женщина, упорствующая в желании все знать о любимом мужчине, разрушает любовь вопреки своему стремлению ее углубить. Это возвращение к теме «Лоэнгрина», столь ценимого писателями-символистами! «Синяя Борода» завершает традицию, в последний раз представляя на оперной сцене притчу о запретном плоде райского сада.
Драматическое напряжение, атмосфера жестокости — об этом говорит имя героини: Балаш назвал ее Юдифь (у Метерлинка она звалась Арианой). В Синей Бороде угадывается Олоферн, а в его любопытной подруге — героический противник. Если мужчина опасен для женщины, то и в женщине таится угроза для мужчины. Эта идея постепенно набирает силу, и в еще большей степени, чем «Саломея», опера Бартока проникнута мотивом крови — к ее пролитию готовы обе стороны, видящие друг в друге потенциальный объект жертвоприношения.
С точки зрения драматургии использование приемов символистской оперы доведено здесь до предела. Это непрерывный одноактный спектакль, длящийся один час; как и в «Саломее», количество голосов сведено к минимуму: бас и сопрано, — скорее это диалог, почти как в «Ожидании». Действие целиком перенесено в психологический план, отсутствуют какие-либо декорации, кроме интерьера готического замка — мрачного и пустынного, как пещера. Опера статична, отягощена смыслом и молчанием, подобно «Пелеасу». О символическом значении сюжета говорит нам голос рассказчика в прологе:
Вот зазвучали первые слова.
И занавес поднялся с бахромою —
Открой глаза пошире и смотри.
Однако где же сцена? Тайна!
Внутри, снаружи? Кто сказать сумеет?
На музыкальном уровне композитор утверждает свое отличие от предшественников более масштабным, мощным и радикальным обращением к тем инновациям, которые были ими введены. Партитура в духе Дебюсси? Несомненно, но в ней больше резкости, присущей ударным. Открыванию тюремных дверей часто сопутствуют сильные удары литавр, напряженные моменты подчеркивает ксилофон. Отмечалось влияние Яначека; нам кажется, следовало бы упомянуть о более очевидной близости к Шёнбергу, сказавшейся в свободе драматического речитатива; кстати, с творчеством венского композитора Барток был знаком с 1910 г. Но в особенности обращают на себя внимание элементы фольклорной музыки, которые удачно вплетены в общую символистскую канву оперы и ее подчеркивают: мелодическая линия нередко представляет собой венгерское «parlando rubato» (прерывистая речь), а иногда уподобляется горестной литании с повторяющимися нотами или нисходящими фразами (что напоминает мольбы Саломеи). Басы отмечены введением пентатоники. Наконец, как и у Дебюсси, здесь прослеживается арочная конструкция (впоследствии Барток будет очень часто ее применять): интенсивность звучания возрастает, затем вновь падает, и изысканная игра тональностей основана на том же переходе от фа-диез к до, за которым следует возвращение к фа-диез (в 1901 г. Дебюсси установил именно этот интервал — тритон — между тональностями двух ноктюрнов: «Облака» и «Праздники»). Мы видим, что «Синяя Борода» по своим истокам, философии и письму является последней оперой символизма.
Вначале мы поставили вопрос: есть ли основания говорить о символизме в музыке? Мы пришли к утвердительному ответу, однако столкнулись с рядом парадоксов! Существует, прежде всего, музыка, излюбленная писателями-символистами, а именно музыка Вагнера и некоторых других композиторов, в той или иной степени испытавших его влияние и имевших отношение к литературно-художественным дискуссиям; наиболее выдающиеся среди них — Шабрие, Форе, Скрябин. Есть затем направления в музыкальной культуре, которые, разрабатывая под эгидой литературы форму поэмы и вокальный жанр, открыли тем самым новое значение сонорности: под этим углом зрения крупнейшим символистом является Дебюсси, а наиболее представительной символистской школой — французская. Итак, речь идет о феномене влияния и о французской музыке? Не только: символистская музыка, стремящаяся к новой, яркой выразительности, соприкасается в этих поисках с другими эстетическими явлениями в частности, с импрессионизмом, а также с течениями, черпающими вдохновение в национальной традиции и фольклоре. Иными словами, лишь два критерия позволяют определить символизм в музыке: более или менее выраженная, более или менее осознанная связь музыки с литературной эстетикой (т. е. с творчеством писателей, известных в период 1870–1910 гг.); поиск вдохновения в гармонических инновациях, вызванных реакцией на вагнеризм (в каждом случае трактуемых по-своему). Тогда очевидно, что музыкальный символизм достигает вершины в опере и, в частности, в трех шедеврах, совсем разных, но в чем-то схожих: «Саломее» Штрауса, «Пелеасе и Мелисанде» Дебюсси, «Замке герцога Синяя Борода» Бартока.
БАРТОК Бела (Надьсентмиклош, 1881 — Нью-Йорк, 1945).

А. БЕК. Портрет Б. Бартока
Бела Барток начал заниматься музыкой в раннем возрасте под руководством своей матери. Позже учился у Эркеля, сына знаменитого оперного композитора, в Братиславе (в то время Пресбурге, бывшей столице Венгрии). Заканчивает музыкальное образование в Будапеште в 1899 г. Замечательный пианист, в 1907 г. он становится профессором будапештской Академии музыки. Познакомившись и подружившись с Кодаем, в 1906 г. вместе с ним отправляется в путешествие по просторам древней страны; собирая музыкальный фольклор ее народов, они записывают около 10 тысяч (!) венгерских, словацких, румынских, болгарских, сербско-хорватских, турецких песен.
По окончании первой мировой войны Барток принимает активное участие в создании республики под руководством Бела Куна; позже в хортистской Венгрии подвергается постоянным нападкам, оказывается под надзором и в конце концов в 1940 г. уезжает из страны; находит убежище в Соединенных Штатах Америки, где умирает в нужде в 1945 г.
Ряд произведений Бартока позволяет поставить вопрос о его связи с символизмом: это симфоническая поэма «Кошут» (1903), две оркестровые сюиты (1905–1907), первый струнный квартет (1908), фортепьянные пьесы, в том числе «Allegro barbaro» (1911), сочинения для музыкального театра: балеты «Деревянный принц» (1914–1916) и «Чудесный мандарин» (1918–1919), опера «Замок герцога Синяя Борода» (1911). Барток соприкасается с символизмом, увлекаясь в течение нескольких лет (примерно с 1907 по 1918 г.) творчеством Дебюсси, от которого он воспринял интерес к аккордам как таковым, вне жестких рамок тональной структуры, идею гармонии, построенной на модальной перспективе, в согласии с модальностью и монодией фольклора. Но именно фольклор заставил Бартока уйти от символизма с его арабесками и размытым ритмическим контуром. Искусство Бартока воплощает усилие и напряжение (сказалось сильное влияние Бетховена, в частности, в квартетах): предпочитая остроту мелодизма, он отвергает слишком рафинированные, расплывчатые, текучие звучания. Неофольклоризм обозначил окончательный стилистический выбор композитора, тогда как символизм был для него лишь школой.
J. Uhde: Bart?ks mikrokosmos. 1954 — S. Moreux: B?la Bart?k, Paris 1955 — P. Arthuys, J. Bart?k, C. Brelet: Bart?k, l’homme et l’oeuvre (La revue musicale n? 224), Paris 1955 — R. Traimer: Bart?ks Kompositionstechnik, 1956 — H. G. von J. Dem?ny, Budapest 1960 — H. Stevens: The life and music of B?la Bart?k, New York 1964.
ДЕБЮССИ Клод (Сен-Жермен-ан-Ле, 1862 — Париж, 1918).

Т. СТЕЙНЛЕН. Портрет К. Дюбюсси
Можно доказать принадлежность Клода Дебюсси как к символизму, так и к импрессионизму: мнение представителей немецкого и отчасти французского музыковедения, сегодня несколько устаревшего, склоняется в пользу импрессионизма; с другой стороны, столь компетентные специалисты, как В. Янкелевич, С. Яроциньский, отстаивают символизм Дебюсси. Возможны и другие определения. Например, Ж. Комбарье в своей монументальной «Истории музыки» (1919–1923) различает два аспекта в творчестве Дебюсси — символистский (" Дева-избранница», «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна», «Пелеас») и натуралистический («Море», «Образы», «Ноктюрны»). Как же обстоит дело в действительности?
Как нам кажется, прежде всего следует отметить, что в эпоху Дебюсси — впрочем, отличается ли она этим от других великих эпох? — несколько течений существовали одновременно. Говоря точнее, наиболее ярким выражением современности в искусстве рубежа XIX–XX вв. стали: в литературе — символизм, в живописи — импрессионизм. Дебюсси принадлежал своему времени и хотел выразить в музыке то, что было ему близко и в символистской поэзии (к которой он относил и поэтов-прерафаэлитов), и в живописи импрессионистов, более революционной, чем живопись символистов («Хочу видеть картины Мане!» — восклицает бунтарски настроенный пансионер Виллы Медичи). Дебюсси утверждается как лидер школы символизма, а символизм был в первую очередь школой французской. Отталкиваясь от вагнерианства и от русской музыки, затем пройдя через страстное увлечение индонезийской музыкой, Дебюсси сформировал свой эстетический идеал на основе этих трех источников. Индонезийская музыка и вагнерианство, как, в свою очередь, вагнерианство и дебюссизм, связаны странным родством: во всех трех случаях речь идет о форме искусства, прибегающего к приемам магии. Расхождение между Вагнером и Дебюсси касается только методики: подобно Малларме и Верлену, Дебюсси ратовал за качество и экономность средств. Далее, в замыслах Дебюсси мелодизму отводится первое место, и оттого, при его свободном, казалось бы, отношении к тональности, он не стал сторонником атональной музыки; напротив, из других музыкальных систем — древних или экзотических — он заимствовал мелодическую материю, содержащуюся в них в готовом виде. Наконец, вследствие всего этого, Дебюсси осуществил то, что являлось идеалом символизма во всех видах искусства, придя к чистой гармонии тембров как первоэлементов (в музыке и поэзии это звуки, в живописи — цвета).
Во введении мы пытались определить музыкальный символизм в трех аспектах: как движение, имеющее мощный литературный субстрат и развивавшееся под влиянием Верлена, Малларме, Бодлера; как язык и, наконец, как выбор определенных музыкальных форм (симфоническая поэма, песня, опера и другие сценические жанры). В этом плане мы проанализировали такие шедевры, как «Пелеас», «Море», вокальные циклы, «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна». Можно было бы продолжить ряд, упомянув некоторые другие сочинения. Интересным произведением является «Мученичество святого Себастьяна» (1911), музыка к тексту Д’Аннунцио, сочиненная для Русского балета. Читая пьесу итальянского автора, написанную по-французски, мы отметим, что для многих эпизодов предусмотрено музыкальное сопровождение. Однако Дебюсси оставил это без внимания, выбрав эпизоды, которые больше соответствовали стилю, заранее сформировавшемуся в его представлении. Чувствуется движение от одного акта к другому, без какой-либо торопливости. Каждый акт имеет собственный колорит, но при этом от произведения исходит ощущение целостности, которого нет в «Пелеасе».
Дебюсси, несомненно, был тронут необычностью текста, религиозным сюжетом. Он восхищался «Парсифалем» и не скрывал этого, хотя был весьма недоволен либретто этой оперы, а в хоре детских голосов находил «фальшивые красоты, которые с трудом сойдут за детскую наивность». Используя сюжет еще более сомнительный, чем у Вагнера, Дебюсси достигает синтеза. Вся партитура выдержана в возвышенном тоне. Дважды возникающий образ Христа (темы Страстей и Доброго Пастыря), открытие врат Рая и следующее за этим небесное пение займут место среди прекраснейших страниц религиозной музыки. Строгость, к которой тяготеет Дебюсси, начиная с «Иберии», принесла свои плоды: облегченность оркестрового состава и гармонической ткани, тонкость инструментовки придают сочинению прозрачность витража. Музыка для театра и музыка духовная: очевидно, и то и другое требовало от автора самоотверженности и концентрации, присущих глубинным поискам Малларме или Валери.
Все последние пьесы Дебюсси сочинены в 1915 г. Сюита для двух фортепиано «Белым и черным», как и «Мученичество», воплощает разреженность пронизанной светом материи. «12 фортепианных этюдов», последовательно восходя по ступеням виртуозности, подчинены замыслу, уже осуществленному в области симфонической музыки (балет «Игры»): достигнуть чистой сонорности. Зная, сколь важное место отведено в его партитуре «неслышимому», Дебюсси дерзнул написать: «изощреннейший из японских эстампов — детская игра по сравнению с графикой некоторых моих страниц». Удивительное заключение всего фортепианного творчества композитора, ретроспективно многое в нем объясняющее, — ведь именно на клавиатуре ставил Дебюсси свои первые эксперименты по «музыкальной химии».
Это выражение с очевидностью напоминает нам об «Алхимии слова» Рембо. Обретение исконной просодии языка — такова цель символизма и в музыке, и в поэзии. Дебюсси достиг этого в своей области, так же как Рембо, Малларме и Валери — в своей.
L. Wallas: Les id?es de Debussy, Paris 1927 — E. et G. Inghelbrecht: Claude Debussy, Paris 1953 — V. L. Seroff: Claude Debussy, Paris 1957 — L. Wallas: Debussy et son temps, Paris 1958 — E. Lockspeiser: Debussy, his life and mind, New York 1962 — M. Dietschy: La passion de Claude Debussy, Neuenburg 1962 — J. Barraqu?: Claude Debussy, 1964.
ДЮКА Поль (Париж, 1865 — Париж, 1935).

П. ДЮКА. Гравюра Анюке
Можно ли всерьез попытаться причислить Дюка к символистам? На первый взгляд, невозможно: природа творчества, дух, его направляющий, формирование композитора — все, по-видимому, указывает на принадлежность Дюка к консервативному лагерю, вернее, даже к музыкальному академизму того времени. Его превозносили за то, что «стремление достигать совершенства было для него жизненной потребностью», — будто не замечая, что при этом Дюка остался чужд всем новейшим соблазнам современного музыкального языка.
Дюка прожил всю жизнь в Париже; учился игре на фортепьяно с пятилетнего возраста, однако по-настоящему почувствовал свое призвание в 14 лет. В 1882 г. поступил в консерваторию, в класс гармонии Дюбуа. Допущенный в 1885 г. к занятиям композицией под руководством Гиро, он подружился с Дебюсси. Удостоенный в 1888 г. Второй Римской премии за кантату «Велледа», оставшуюся неизданной, вскоре ушел из консерватории и работал самостоятельно.
Дюка имел счастье быть другом Сен-Санса, Дебюсси, Форе, д’Энди. Писал критические статьи, собранные впоследствии в книгу «Заметки о музыке». Композитор вскормлен музыкой Бетховена, Берлиоза и Глюка, его верных «спутников» в течение долгих суровых лет; с их помощью он находит свой стиль — прежде всего в «Симфонии», затем в ставшем слишком популярным «Ученике чародея» (1897). Его литературные вкусы и внемузыкальные источники вдохновения, его критические размышления лишены признаков какого-либо интереса к символизму; Гете, Корнель, Шекспир, Бальзак — к их творческому миру обращается Дюка, он вынашивает замыслы «Короля Лира», «Геца фон Берлихингена», а первое его сочинение — увертюра к «Полиевкту»! Дюка нравится подражать этим сильным характерам в своей манере композиции: его музыку отличают мощные темы, чеканный ритм, а вместе с тем интонация непонятной тоски, не высказанной до конца, словно сдерживаемой стыдливостью.
И все же… не был ли символизм своего рода искушением, которому Дюка стремился противостоять? Заметим, во-первых, что формы, преимущественно разрабатываемые композитором (увертюра, симфоническая поэма, опера или «драматические сцены»), — именно те, в которых символизм проявил себя наиболее ярко, хотя в данном случае нет ссылок на «проклятых» (Бодлер, Верлен) или «вычурных» поэтов (Малларме). Впрочем, развитие музыкального высказывания у Дюка прямо свидетельствует о символистском способе мышления: даже в произведениях «чистой» музыки (таких, как фортепианная «Соната», 1901 г.) непременно присутствует чувство контраста, ощущается движение, восхождение от тьмы к свету, — указания на то, что логика и ясность добываются дорогой ценой; это не природные качества, а ценностные ориентиры. Говоря точнее, сила ясности в композиции Дюка обусловлена отказом от гризайли, от полутонов как от чего-то гибельного.
Наиболее ярко проявился этот непреодолимый глубинный символизм, хотя и несколько манихейского толка, в музыкально-драматическом творчестве композитора. «Ариана и Синяя Борода», «Пери» контрастируют с его симфоническими сочинениями и камерной музыкой. Дюка так объяснял новый, близкий к модной эстетике характер названных произведений: «Никому не хочется быть освобожденным, лучше добыть свободу себе. Победив жалость, которую внушают ей несчастные покорные сестры (жены Синей Бороды), Ариана уйдет от них, исполненная покоя и печали, как подобает после такой победы». Итак, «Ариана» символизирует тщетность всяких попыток освободить тех, кто связан любовью. Хореографическая поэма «Пери» воплощает иной символ: отказ мужчины от исполнения желания ради того, чтобы возлюбленная могла осуществить свое предназначение полусказочного существа, чье оружие — обольщение, а конечная цель — чистота. Обе пьесы, сюжеты которых носят явно символистский характер, отличаются необычайным богатством и очарованием. Эта музыка позволяет судить, в какой степени свойственно Дюка сдерживаемое им вдохновение символиста.
G. Favre: Paul Dukas, sa vie, son oeuvre, Paris 1948.
ЛЕКЁ Гийом (Вервье, 1870 — Анже, 1894).

Г. ЛЕКЁ
За свою короткую жизнь он не успел полностью воплотить программу музыкального символизма. Обычно его представляют как ученика Сезара Франка. Так, Венсан д’Энди в книге «Сезар Франк» пишет: «В основной состав учеников, имевших счастье непосредственно воспринимать драгоценные наставления Франка, входили, в хронологическом порядке: А. Дюпарк, А. Кокар… В. д’Энди, Э. Шоссон… Ш. Борд, Ги Ропарц и, наконец, бедный Гийом Лекё, который умер в 24 года, оставив после себя значительный багаж пронзительно-экспрессивных сочинений». В действительности, Лекё, сначала изучавший музыку и композицию самостоятельно, штудировавший квартеты Бетховена, успел взять у Франка всего лишь уроков двадцать! Как бы то ни было, свойственная Лекё тонкость мелодического поиска позволяет поставить его в один ряд с художниками, видевшими идеал чистоты и красоты в символизме. На самом деле влияние Франка лишь более основательно утвердило Лекё в выборе пути, близкого его натуре. До сих пор никто не сказал, в частности, о том, что Лекё был настоящим эстетом и «поэтом», стремившимся осуществить в своем многообразном творчестве давнюю мечту об «абсолютном шедевре». Ему лишь 19 лет, когда в Вервье исполняется его симфонический этюд «Песнь торжественного освобождения»; тогда еще он практически не учился музыке. Кантата «Андромеда», за которую он удостоен бельгийской Римской премии, — законченное воплощение декадентства в совокупности всех его тенденций. В 1892 г. он пишет «Три поэмы» на свои собственные стихи: «На могиле», «Хоровод» и особенно значимый «Ноктюрн», и названием, и фактурой напоминающий самые интересные вещи Дебюсси. В 1893 г. возвращается к этим поискам в сочинении «Сгустившаяся тень» (само название говорит за себя). Таким образом, Лекё свойственны разносторонняя одаренность, виртуозность средств, глубина высказывания; замечательны интонации его вокальных произведений — как бы прерванные, незавершенные, «пуантилистские» (как, например, фраза виолончелей в «Фантазии», которая предвосхищает Равеля и пентатонику). Естественно, столь одаренный и самобытный художник был желанным гостем на «вторниках» Малларме, у Габриеля Сеай, у Визева (высоко ценившего симфонический этюд 1889 г.). Гийом Лекё с равным успехом обращался ко всем символистским музыкальным жанрам: камерной музыке («Трио», 1890, сонаты для виолончели и фортепиано, скрипки и фортепиано), песне, симфонической поэме, опере. Его искусство, кажется, достигло наивысшею расцвета в двух произведениях: «Втором симфоническом этюде» (1890) и «Сонате для скрипки и фортепиано» (1892).
Первой части симфонического этюда под названием «Гамлет» предпослан эпиграф из Шекспира:
«…Умереть, уснуть. — Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность:
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бренный шум»…
(Пер. М. Лозинского)
Франк, ознакомившись с первой частью этюда, был, по словам Лекё, совершенно ошеломлен. Вторая часть, «Офелия», начинается цитатой из второй части «Фауста» Гёте: «И женственность вечная горе нас возводит». Вагнеровского — или франковского — больше в первой части, куда искусно введены волнующие отголоски «Парсифаля» и «Психеи». Во второй части оригинальнейшая индивидуальность Лекё проявилась как в мелодической изобретательности, так и в особенностях гармонии: послевагнеровский стиль высвечен изнутри полифонией, предвосхищающей Дебюсси.
«Соната для скрипки и фортепиано» (1892), посвященная Эжену Изаи, вдохновившему композитора на это сочинение, является скорее рапсодией. Несомненно, определенная скованность, несколько нарочитая виртуозность выдают стиль еще очень молодого музыканта, но и здесь исключительное мелодическое богатство, страстность интонаций говорят о том, что автор «близок к гениальности». Главный мотив, открывающий сонату, включает нисходящую октаву и фигуру из восходящих триолей. После множества трансформаций мотив вновь появляется в первоначальном виде в конце последней части. Циклическая форма отчетливо уловима. «Соната» Гийома Лекё, написанная всего на шесть лет позже, чем «Соната» Франка, совершенно нова и прекрасна по звучанию.
МАЛЕР Густав (Калишт, Моравия, 1860 — Вена, 1911).

О. РОДЕН. Портрет Г. Малера. 1909
Малер — современник Дебюсси. Правомерно ли на этом основании сравнивать его с французским композитором в плане музыкального символизма? На первый взгляд, это не так: можно было бы сослаться на один случай, подтверждающий противоположность их концепций. В апреле 1910 г. Малер приехал в Париж и дирижировал своей 2-й симфонией в театре Шатле. Успех был огромным, но в середине второй части Дебюсси, Дюка и Пьерне встали и вышли из зала, протестуя таким образом против «славянской» музыки с шубертовскими интонациями. Вероятно, у Дебюсси, противника дилетантства, вызвали раздражение наивность в мелодизме второй части, традиционные приемы развития в начальном аллегро, взрывы сентиментальности — нечто прямо противоположное сдержанным намекам «Пелеаса». Действительно, если отождествлять символизм со сдержанностью, смягченностью высказывания, вниманием к соотношениям звучаний и их значениям, то у Малера с этой эстетикой нет ничего общего. Но все не так просто. Рембо и Малларме при первом прочтении также представляются совершенно разными поэтами!
В самом деле, во всех аспектах разносторонней деятельности Малера, в многообразных его поисках можно отметить объективные соприкосновения с миром символизма. Вначале Малер оказался причастным к символизму «Молодой Вены» благодаря Анне Мильденбург, исполнительнице его произведений, ставшей женой литературного критика и эссеиста Германа Бара. Затем, будучи директором и дирижером Венской придворной оперы (1897–1907), Малер сотрудничал с художником-декоратором Альфредом Роллером, проявлявшим пристальное внимание к эффектам освещения, созданию особой сценической атмосферы. Например, в спектакле «Вольный стрелок» 21 октября 1898 г. сцена в Волчьем ущелье сопровождалась тусклым мерцанием «призрачного» света — характерный новаторский прием, в дальнейшем заимствованный экспрессионистами.
В спектаклях «Золото Рейна» (1905), «Дон Жуан» (в том же году) использовались подобные средства. В свою очередь Малер, высокообразованный, проникнутый духом современной литературы, долгое время — правда, безуспешно — вел борьбу за то, чтобы включить в репертуар Венской придворной оперы «Саломею». Таким образом, эстетические ценности символизма не были ему чужды.
Еще удивительнее у этого композитора, остававшегося верным тональности, гармоническая неоднозначность, эквивалентная модальности: так, начиная с «Жалобной песни» (1880), предельное разнообразие тональностей рождает чувство беспокойства. В «Песне о земле», одном из последних сочинений, Малер многократно обращается к пентатонике и экзотичной инструментовке, не уступая в использовании этих приемов Дебюсси. То изысканно живописная («О юности», «О красоте»), то (как в последней части «Прощания», где прием этот особенно убедителен) поистине заклинательная в своей прозрачной инструментовке, пентатоника сближает композитора с эстетикой «сущностного слова». И, как у Малларме, последние слова «ewig… ewig…» постепенно стихают, а в финале воцаряются молчание и тайна. Особенно замечательна в симфониях Малера смесь гротеска и сентиментальности, рождающая сюрреалистическое ощущение. Замечал ли кто-нибудь, что та же парадоксальность свойственна лучшим произведениям Рембо: в «Алхимии слова», «Озарениях» совмещены вульгарное и утонченное; подобное столкновение противоположностей найдем мы в «Волшебном роге мальчика», 1-й, 7-й симфониях. Отмечалось, наконец, что Малер глубоко и проникновенно чувствует природу: фантастическая и близкая, пленительная и умиротворяющая, не напоминает ли малеровская природа в «Песнях юношеских лет» образы леса и зари у Рембо?
Малер — композитор, не подлежащий классификации. Его то ниспровергали, то превозносили те или иные музыканты, однако прежде всего он остается самим собой; и все же в некоторых отношениях его эстетические ценности совпадают с ценностями символизма.
Р. Stelan: Gustave Mahler, eine Studie ?ber Pers?nlichkeit und Werk, 1950 — P. Bekker: Gustav Mahlers, Sinfonien, 1921 — Alma Maria Mahler: Gustave Mahler, Erinnerungen un Briefe — T. H. Adorno: Mahler, eine musikalisch physiognomik, 1960.
РАВЕЛЬ Морис (Сибур, Атлантические Пиренеи, 1875 — Париж, 1937).

А. УВРЕ. Портрет М. Равеля
Равеля связывают с символизмом прежде всего те влияния, которые ему пришлось испытать. В 1889 г. он поступает в консерваторию; знакомится там с Рикардо Винесом, ставшим позднее самым знаменитым исполнителем фортепианной музыки символистов (Дебюсси, Шабрие, Сати и Равеля). Уже в 1902 г. Равель удостаивается лестной похвалы Дебюсси за свой «Квартет»; однако жюри Римской премии, не столь благосклонное, присуждает ему лишь второе место. В 1905 г., благодаря своим друзьям Годебским, Равель знакомится с художниками разных профессиональных интересов и национальностей, объединенными причастностью — в тот или иной момент творчества, в связи с тем или иным произведением — к символизму. Это Леон-Поль Фарг, Морис Деляж, Ролан-Манюэль, Д. Э. Энгельбрехт, Деода де Северак, Фалья, Флоран Шмитт, Кокто, Валери Ларбо, Дягилев, Нижинский, Стравинский. С этого времени Равель идет своей дорогой, и вехами его пути становятся произведения, которые, как правило, сразу же получают признание: 1907 г. — «Испанская рапсодия», где мастерски, с большой образной насыщенностью используются модальные мелодии; 1912 г. — «Дафнис и Хлоя» на либретто Фокина, балет, заказанный Равелю Дягилевым. Сюжет, относящийся к александрийской эпохе, сам по себе свидетельствовал о принадлежности к символизму: мы имеем в виду религиозно-эстетический синкретизм поэзии, портрет женщины-ребенка и т. д. К тому же, сразу применив эффект «обманки» («Сочиняя «Дафниса и Хлою», я стремился написать большую музыкальную фреску, думая не столько об архаике, сколько о верности Греции моей мечты, схожей с той Грецией, которая вдохновляла французских художников конца XVIII века»), Равель вписывается в эстетику расплывчатой суггестивности, чуждую дотошному археологизму. По отношению к античности он занимает ту же позицию, что Малларме или Д’Аннунцио. В 1913 г. появляются «Три стихотворения Стефана Малларме». В 1915-м — «Три песни» для смешанного хора на стихи Равеля; мы можем оценить, к примеру, дух его «Хоровода»: «Не ходите в лес Ормонд, девушки, не ходите в лес. Там кишат сатиры, кентавры, колдуны, карлики, инкубы, людоеды, лешие, фавны, домовые, упыри, черти, чертенята, дьяволята, козлоногие, гномы, бесы, оборотни, эльфы, лилипуты, волшебники, чародеи, кикиморы, сильфы и угрюмые монахи, циклопы, джинны, демоны, злые духи, некроманты, кобольды… Ой!» Не правда ли, удачная пародия на поэтические приемы Верлена или Метерлинка?
1917 год — «Гробница Куперена», 1920-й — «Вальс», 1925-й — «Дитя и волшебство», 1929—1931-е — сочинение двух фортепианных концертов, 1932-й — «Три песни Дон Кихота к Дульцинее» (на слова Поля Морана), 1937 г. — смерть композитора.
О соприкосновении с символизмом свидетельствуют не только конкретные произведения Равеля. В более общем плане можно говорить также о влиянии Шабрие и Дебюсси на его фортепианную музыку, Листа — на оркестровые сочинения; наконец, о любви к красочности и суггестивности, что сближает Равеля с русскими композиторами (ср. его «Шехеразаду» с одноименным сочинением Римского-Корсакова, взятым за образец). Воздействие символизма проявилось не столько в личных контактах или каких-либо значимых встречах (как, например, встреча с Сати, другом великого декадента Сара Пеладана, в «Ша нуар» в 1911 г.), сколько в самом музыкальном письме Равеля, которому присущи утонченность звучаний, отчасти навеянных обращением к модальности, утрированная «барочность», поистине в духе Малларме (стиль, изобилующий апподжиатурами, проходящими звуками, с несколько напряженными басами, ведением мелодии обеими руками на расстоянии нескольких октав); старинные лады. Наконец, Равелю в высшей степени свойственны удивительное чувство стиля, строгость, близкая к магии чистой поэзии. «Головное искусство», — нередко говорили о нем. В этом случае Равелю, вероятно, ближе всего Валери; в сущности, эта аналогия вполне справедлива: оба художника причастны к неосимволизму, расцвет которого пришелся на период первой мировой войны и годы, ее обрамляющие, — «Юная парка» во многом близка к «Дафнису и Хлое».
Rolland-Manuel: Maurice Ravel, Paris 1948 — J. Bruyr: Maurice Ravel, son lyrisme et les sortil?ges, Paris 1949 — V. Jank?l?vitch: Ravel, Paris 1952 — R. Chalupt: Ravel au miroir de ses lettres, Paris 1956 — H. Stuckenschmidt: Maurice Ravel, 1966.
САТИ Эрик (Онфлёр, 1866 — Париж, 1925).
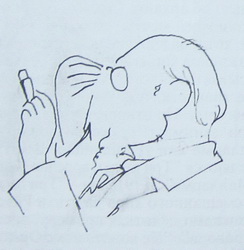
Ж. КОКТО. Портрет Э. Сати
Связан ли как-либо с символизмом этот композитор, прослывший юмористом и даже ниспровергателем устоев? Вагнерианство начального периода, вскоре им отвергнутое, стилизация, строгость поздних произведений дают основания отнести его скорее к лагерю художников-революционеров XX столетия (таких, как Стравинский, Шёнберг и другие), на которых эстетика прошлого века не оказала большого влияния. Однако при ближайшем рассмотрении все оказывается не так просто. Если, интерпретируя творчество Сати, мы начнем с его периодизации, то можно утверждать, что ранний период — с 1886 по 1895 г. — был периодом мистицизма и символистских влияний. Сати поступает тапером в «Ша нуар», знакомится с Саром Пеладаном, пишет «Стрельчатые арки», «Готические танцы»: не свидетельствует ли все это о декадентстве? «Пусть праведный гнев богов сокрушит гордых и нечестивых», — заключительный выпад «Посвящения», предпосланного «Халдейской вагнерии», отражает состояние духа композитора в то время.
В музыке тех лет для нас яснее раскрывается влияние символизма на Сати. Три вступления к «Сыну звезд»
(1891), «Фанфары ордена «Роза + Крест» (1892), «Прелюдия Героических врат неба» — самые показательные примеры. В последней вещи последовательность статичных звучаний, трактованных гулкими аккордами, в стиле рудиментарного «кантус планус», создает привычный фон, интерпретируемый, по признанию самого Сати, подобно дальним планам Пюви де Шаванна, — в смягченных тонах, размытыми линиями. Это музыка чисто декоративная и, если можно так сказать, «андрогинная», напоминающая о странных двойственных существах с полотен той эпохи. «Святой Себастьян» Дебюсси — Д’Аннунцио — отчасти отражение той же своеобразной поэзии, того же эфирного мистицизма. В период 1897–1915 гг. Сати создает ряд юмористических пьес — за них поспешно ухватились, освоив лишь провокационную, ломающую нормы внешнюю форму. Но в действительности внимание к звучанию, стремление к утонченности как в замысле, так и на уровне письма опять-таки раскрывают Сати как стилиста, отмеченного влиянием символизма. Стоит обратиться к «Варианту начала» (из «Гноссиенны»), своим сквозным экзотизмом напоминающему все ностальгические вздохи по Востоку, затем к «Продолжению», где нежное трио навеяно «сонорными» принципами Дебюсси; стоит с удовольствием припомнить деликатный мелодический контур «Добавления», застенчиво-нежную интонацию «Повторения», — и тогда станет очевидной обоснованность наших утверждений. Заботясь о точности линий и пренебрегая колоритом, Сати в своих сочинениях сближается с Морисом Дени, с Андре Жидом. В нем угадывается художник, отрекшийся от символизма. Это становится ясно при изучении следующих сочинений — по порядку, с 1911 но 1915 г.: «Вялые прелюдии», «Сушеные эмбрионы» и пр., — сочинений, которые слишком часто рассматривались без учета эволюции Сати и потому скрывали то, к чему, быть может, композитор питал истинную склонность. Тем не менее в 20 эскизах, например, опубликованных в 1914 г. под названием «Спорт и развлечения», тема отдыха на свежем воздухе дает повод к созданию настоящего эквивалента хокку в музыке: эти звучащие двустишия обладают отточенностью японского стихотворения и поэзии Малларме, каждое из них намечено лишь одним росчерком сухой иглы и вмещает изощренное и ярко-обобщенное описание пейзажа или чувства. Убедившись в этом, осмелимся ли мы утверждать, что Сатш не имеет ничего общего с символизмом? Конечно, заявления самого Сати, особенно в поздний период, о том, что он сочиняет только «меблироаочную музыку», слишком долго вводили нас в заблуждение: надо раскрыть в нем потаенное вдохновение, веяния времени, чтобы понять, насколько вписывается он в нашу тематику.
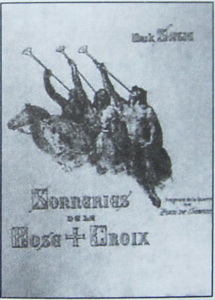
Э. Сати. Фанфары ордена «Роза + Крест». Обложка нот с рисунком Пюви де Шаванна. 1892
P. D. Templier: Erik Satie, Pam 1931 — J. Cocteau: Erik Satie, Li?ge 1957 — Rolio H. Myers, Londres 1968.
СКРЯБИН Александр Николаевич (Москва, 1871 (1872) — Москва, 1915).

Л. О. ПАСТЕРНАК. Портрет А. Н. Скрябина
Скрябин — композитор переходного периода; его философия искусства, гармонический язык, приверженность символистским формам — таким, как поэма или прелюдия — говорят о принадлежности к символизму; в то же время он исчерпал все возможности символизма и обратил эту эстетику лицом к современности. Так, подобно
Дебюсси и в еще большей степени Шёнбергу, Скрябин взорвал символизм, акцентируя наиболее революционные его аспекты.
Из сочинений Скрябина отметим «Мечты для фортепиано» (1894), две симфонии, сочиненные в 1890–1903 гг., симфонические поэмы: «Божественная поэма» (1903), «Поэма экстаза» (1907–1908), «Прометей» (1909–1910) и особенно семь поразительных фортепианных сонат, написанных между 1903 и 1913 гг.

А. Н. Скрябин. «Прометей». Страница партитуры. Автограф
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Синяя Борода
Синяя Борода Неприятная личность. Даже писать о нем не хочется. Но, в назидание легкомысленным девушкам, нужно. «Синяя Борода» – прозвище человека, имя которого никто уже не знает и знать не хочет. Отъявленный негодяй, преступник, богатый французский дворянин
Черная борода
Черная борода На рубеже XVII и XVIII веков укромные местечки бесчисленных островов Карибского моря служили надежным приютом пиратским шайкам. Одно из убежищ на острове Нью-Провиденс породило в начале XVIII века пирата, имя которого вселяло ужас – Черная Борода.Свирепый
Борода и подбородок
Борода и подбородок По мнению китайских физиономистов, судьба молодого человека лучше открывается по его бровям, а старика – по его бороде. Поэтому, как правило, физиономист фокусирует свое внимание на бровях молодых людей или на бородах стариков. Однако в наше время
БОРОДА
БОРОДА Обычно такое прозвище получал мужик с большой окладистой бородой. От этого прозвания и пошли Бородины, Бородкины, Бородавские, Бородавины, Бородачёвы, Бородовские. Фамилия известной телеведущей Юлии Бордовских тоже имеет право быть зачисленной в этот ряд, если
3. Смит — «Синяя борода»
3. Смит — «Синяя борода» Джордж Джозеф Смит рано стал на путь преступлений. Четырнадцати лет от роду он уже отбывал наказание в реформаториуме для несовершеннолетних. 16-ти лет он совершает кражу и снова направляется в реформаториум. Не успевает он выйти на волю, как снова
14. Синяя борода из Техаса
14. Синяя борода из Техаса Ваша честь, я невиновен. Я этого не совершал, — произнес сдавленным голосом пожилой мужчина в очках, по-военному стриженный, но больше смахивающий в своем консервативном костюме на бизнесмена.Суд присяжных только что признал его виновным,
Bluebeard Синяя Борода
Bluebeard Синяя Борода 1944 — США (73 мин)? Произв. PRC (Леон Фромкесс)· Реж. ЭДГАР ДЖОРДЖ УЛМЕР· Сцен. Пьер Жендрон по сюжету Арнолда Филлипса и Вернера X. Фюрста· Опер. Джоки А. Файндел· Муз. Лео Эрдоди· В ролях Джон Кэррадин (Гастон Морель), Джин Паркер (Люсиль), Нильс Астер (инспектор
Синяя Борода
Синяя Борода Из старофранцузской сказки «Рауль, рыцарь Синяя Борода», обработанной и изданной французским писателем-сказочником Шарлем Перро в 1697 г. В ней говорится о рыцаре, который в гневе убил свою первую жену, потом пять других, на которых он женился позже. С ними он